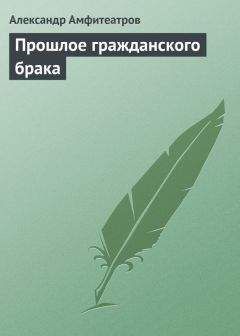Николай Добролюбов - Поденьщина… Пустомеля… Кошелек… Сатирические журналы
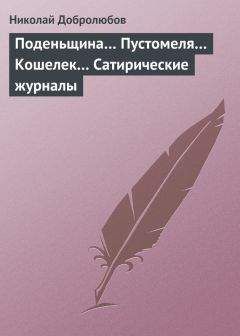
Обзор книги Николай Добролюбов - Поденьщина… Пустомеля… Кошелек… Сатирические журналы
Николай Александрович Добролюбов
Поденьщина… Пустомеля… Кошелек… Сатирические журналы
Поденьщина. Сатирический журнал Василия Тузова. 1769. Издание А. Афанасьева. Москва, 1858
Пустомеля. Сатирический журнал 1770. Издание А. Афанасьева. Москва, 1858
Кошелек. Сатирический журнал Н. И. Новикова. 1774. Издание А. Афанасьева. Москва, 1858
Русская библиографическая наука развилась в нашем отечестве необыкновенно быстро и роскошно. Даже люди, убежденные в том, что Россия во всех науках достигла изумительного совершенства, должны согласиться, что ни одна наука не стоит у нас на такой высокой степени развития, как библиография. Нам даже кажется, что только в области библиографии являлись у нас до сих пор истинные ученые, в тесном значении этого слова, ради своей науки отрешавшиеся от всяких общественных, нравственных, литературных и иных интересов. У нас были и есть – и историки, и критики, и юристы, и политико-экономы, и математики, и натуралисты, и пр., и пр. Но все это, собственно говоря, не ученые; это – артисты, дилетанты, светлые головы, гении наконец, если хотите, но только уж никак не ученые. Всем памятно торжественное осуждение, провозглашенное целой партиею Грановскому за то, что он не был ученым;[1] не менее памятны нападки на Белинского за недостаток в нем учености.[2] В этом же смысле подымались голоса против Мейера, Кудрявцева и других людей, бывших полезными двигателями нашей общественной образованности.[3] И действительно, что уж это за ученые, когда наука интересует их не исключительно сама по себе, не своим абсолютным величием и отвлеченною красотою, а своим отношением к жизни и реальным своим значением!.. Это уж значит, что они жизнь предпочитают науке, что недостойно истинного ученого. Часто встречаются у нас в некрологах фразы, что вот, дескать, умер человек, всю свою жизнь посвятивший науке… Но все это обыкновенно бывает несправедливо и только так кажется на первый взгляд. Кроме библиографов, никто у нас жизни своей не посвящал науке. Были ли у нас, например, ученые, подобные тому аббату, который много лет употребил на исследование вопроса о том, на каком именно месте находилась вилла Горация, и посвятил этому вопросу три толстых тома?[4] Были ли у нас изыскатели, которые бы всю жизнь мучились над исследованием головоломного вопроса: каким образом происходило бы размножение человечества, если бы не было различия полов в человеческом роде? Были ли у нас специалисты по таким предметам, как, например, вопрос о том, на каком году начал седеть Рюрик, сколько было весу в колчане, который приснился Святославу в «Слове о полку Игореве», какой формы, цвета и объема был сосуд, из которого дали напиться пива Илье Муромцу калики перехожие, и т. п.? Не было у нас таких ученых, и некоторые почтенные люди говорят даже с душевным прискорбием, что русская натура вовсе и неспособна к такой учености. Г-н Берви только, в своих исследованиях о том, как в анатомических признаках и химических явлениях уловить дух мира, подходит к такому идеалу учености. Но, к сожалению, фамилия г. Берви показывает, что и его не совсем можно причислить к семье ученых русских…[5] И выйдет, по надлежащем исследовании, что действительно, кроме библиографов, у нас истинных ученых нет и не бывало. Даже и те случаи, когда человек, занимающийся каким-нибудь предметом, вдруг является ученым, и эти случаи, – все до единого, – сводятся к библиографии. Человек забрасывает вас фактами, открытиями, глубокими соображениями; вы думаете, что он в самом деле изучал свой предмет, как он есть, живьем, что он сам думал о нем и вывел свои заключения на основании общих законов, им же самим если не открытых, то по крайней мере усвоенных, обдуманных, проверенных… Ничего не бывало: в конце концов оказывается, что он только знает литературу своего предмета, – иначе сказать: в библиографии угобзился зело… Далее этого русские ученые (собственно, так называемые) не простираются… Мы могли бы представить сотни доказательств и примеров; да только – зачем же доказывать то, что каждый день у всякого пред глазами?..
Зато библиография вполне удовлетворяет у нас самым взыскательным требованиям (если не упоминать о «Библиографических записках»,[6] в которых она иногда сбивается с своего пути). Библиографы русские успели возвыситься до того научного величия, при котором мелки и ничтожны становятся обыденные интересы простых смертных. Библиограф русский, принимаясь за свой труд, отрешается от всего житейского; для него исчезают пространство и время, звания, полы, возрасты, все различия предметов; он носится в библиографических сферах, видя перед собою только буквы, страницы, опечатки, оглавления и не различая ничего более. Примеры и результаты подобной аскетической преданности своей науке и отрешенности от всего земного поистине достойны благоговейного изумления. Когда при вас говорят, например, о Гоголе, то вам приходят на ум прежде всего «Мертвые души» и «Ревизор», оттого что вы преимущественно к этим его произведениям привязываете разные литературные и общественные интересы. Для библиографа никаких интересов подобного рода не существует! Для него важна его наука, требующая указания страниц, года, формата и т. п. Библиограф погрешил бы против своей науки, если бы «Мертвым душам» отдал преимущество пред «Развязкой Ревизора» или «Перепиской». Он совершил бы страшное преступление, если бы «Мертвые души» предпочел «Гансу Кюхельгартену». Помилуйте – что за невидаль «Мертвые души»! А «Ганс» – библиографическая редкость… И так тверда у библиографов эта точка зрения, что один из них, составляя список сочинений Гоголя, действительно пропустил «Мертвые души»,[7] а другой библиограф, услышав об этом, сказал в оправдание своего собрата: «Один пропуск – не велика важность; нельзя же обойтись совсем без пропусков». Так сильно в библиографах отрешение от всяких интересов, посторонних для их науки!..
Есть примеры еще разительнее. Один библиограф взялся, например, составить полный список русских женщин-писательниц.[8] Взявшись за это, он сказал себе: фамилии мужеского рода кончаются на ъ, ий, женского – на а, я; по этому признаку буду я узнавать женщин-писательниц. И действительно, далее этого он уже ничего знать не хотел. Если бы ему предстали подписи: брама, мирза, мустафа, он бы всех их зачислил в женщины, а Елизавет Воробей, конечно, попала бы у него в мужчины, как у Собакевича. И в списке женщин-писательниц действительно оказалось несколько мужчин, даже несколько названий деревень, принятых библиографом за писательниц потому, что они оканчивались на а или я. Напрасно в самой книге упоминалась та же деревня, напрасно в том же журнале, откуда взято было известное имя, несколько раз назывался Егором писатель, принятый библиографом за Елену: он ничего знать не хотел, кроме своей науки и буквы Е., поставленной пред фамилией, которую счел он за женскую… Твердость духа и презрение ко всему житейскому – поразительные!..
Нам кажется, что г. Афанасьев не совершенно достиг еще до такого презрения к жизненным интересам ради высоты своей науки. Истинный, совершенный библиограф издал бы, конечно, «Мешенину»,[9] а уж никак не «Кошелек», при котором у Сопикова[10] не стоит даже отметки: «редка». Неполноту и даже слабость библиографических начал в г. Афанасьеве доказывают и многие из статей его, помещенных в «Библиографических записках», «Атенее», «Русском вестнике» и пр. В нем еще заметно легкомысленное, дилетантское стремление пользоваться библиографическою наукою для разрешения некоторых чуждых ей вопросов. Такие статьи, как «Школа светских приличий», «Черты нравов прошлого столетия» и т. п., уже по самому заглавию своему неприличны для истинного библиографа.[11]
Но, с другой стороны, г. Афанасьев подает блестящие надежды на то, что он достигнет совершенства библиографической учености. Надежды эти поддерживаются в нас особенно изданием «Пустомели» и «Поденьшины». Здесь библиографическая точка зрения заслонила уже пред г. Афанасьевым всякие другие интересы. «Пустомеля» «редка» (выразимся так, принимая ее за женщину-писательницу): только два экземпляра известны в свете, да и то еще другой-то известен только по слухам и потому остается в подозрении; сам г. Булич, автор речи о значении Пушкина,[12] не видал «Пустомели» и говорил о нем только по слухам. Эти обстоятельства сообщают «Пустомеле» великую ценность в глазах библиографа. Ему дела нет, что журнал этот плох, что от него никому не может быть ни пользы, ни удовольствия, что никто им не поинтересуется. Он редок, – и этого достаточно. Конечно, и редок-то он именно потому, что был слишком плох, так что даже 88 лет тому назад немногих интересовал. Но это ничего не значит в глазах библиографа: издавая редкость, он оказывает услугу своей науке, а до остального ему дела нет. В 1769 году стали выходить «Всякая всячина», «Адская почта», «И то и се», «Ни то ни се», «Полезное с приятным», «Пустомеля», «Смесь», «Трутень».[13] Человек с обыкновенными, простыми понятиями о литературе выбрал бы, конечно, «Трутень», как самый лучший из всех и имеющий интерес не только исторический, но даже отчасти и современный. Затем обыкновенный человек издал бы «Живописца», «Вечера» и другие новиковские издания до «Утреннего света».[14] В этих изданиях затрогивались серьезные вопросы, которые получили свое развитие только в позднейшее время, и во многих отношениях современной публике было бы поучительно проследить, как ставились и понимались некоторые из нынешних вопросов сатирою прошлого столетия. Правда, и в то время сатира была не совершенно свободна и откровенна в своих речах; слабость ее сознавал сам Новиков, поместивший в «Живописце» письмо одного приказного, который, обращаясь к «Живописцу», говорит: «Мне кажется, брат, что ты похож на постельную жены моей собачку, которая брешет на всех и никого не кусает; а это называется брехать на ветер. По-нашему – коли брехнуть, так уж и укусить, да и так укусить, чтобы больно, да и больно было. Да на это есть другие собаки. А постельным хотя и дана воля брехать на всех, только никто их не боится…» Но при всем этом нужно сказать, что многие из намеков, обличений и насмешек новиковской сатиры не показались бы бледны и в современной обличительной литературе. Таковы сатирические его выходки против взяточничества, барской спеси, пренебрежения человеческих прав в низшем классе общества, ложного благочестия и т. п. Но еще более интереса имеет для нас новиковская сатира как исторический документ, рисующий перед нами нравы эпохи. Есть вопросы, которых положение совершенно уже не то в совремейном обществе, как было 90 лет тому назад, но которые все-таки не перестают привлекать наше внимание по своему историческому значению. Таков, например, вопрос об отношениях помещиков к крестьянам. Конечно, теперь порядок дел совершенно уже изменился или изменяется. Но тем любопытнее для нас сохранение черт невозвратной старины и тем важнее для нас убеждение, что еще в прошлом веке, почти при самом начале своего развития, литература наша уже выражала добрые стремления относительно этого вопроса. Заметки новиковских журналов на этот счет чрезвычайно живы и метки и, как черты своего времени, дышат правдой. На них-то, конечно, прежде всего и обратилось бы внимание обыкновенного издателя, предпринявшего перепечатку старинных журналов.